История семьи Картошкиных
12 февраля 2025
Мою бабушку звали Ксения(Аксинья), так же как меня. Я её очень любила. Я запомнила её радостной, творческой, внимательной к людям и очень деликатной. Она прожила до 94 лет, хотя планировала 102. Говорила, что ей кукушка столько накуковала Но, как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Но она прожила достаточно долго, почти не болела. Рисовала, пела, занималась хозяйством и говорила, что дела отвлекают её от старости.
Я сама по образованию фольклорист, поэтому всегда интересовалась народными традициями, и семейными в частности. Жаль, что я лично не знала своих прадеда с прабабкой, но свою бабушку Ксеню я опросила очень тщательно, откуда они родом и как жили.
Я сама по образованию фольклорист, поэтому всегда интересовалась народными традициями, и семейными в частности. Жаль, что я лично не знала своих прадеда с прабабкой, но свою бабушку Ксеню я опросила очень тщательно, откуда они родом и как жили.
Моя бабушка Аксинья Харитоновна Кузьмина (девичья Картошкина) родилась 4 мая 1923 года в деревне Мостовка Дмитриевского с/совета Заларинского района Иркутской области. В Мостовке жила с родителями до 1940 года. Туда их семья приехала из-под Могилёва во время Столыпинской реформы. В Белоруссии они считались зажиточными крестьянами, потому что «трудолюбивые были», даже молотилку сами сделали, поэтому их поставили «под твёрдое(фиксированный налог)», – рассказывает бабушка.
У ее родителей (Харитона Михайловича Картошкина, 1884 г.р. и Марфы Кузьминичны Козьминой, 1885 г.р.) было 13 детей, она «поскрёбыш», последняя. Во время переселения в Сибирь по дороге погибло двое мальчиков-двойняшек, и ещё про троих ничего не известно. По факту бабушка упоминала имена восьмерых, но говорила, что всего было 13.
У ее родителей (Харитона Михайловича Картошкина, 1884 г.р. и Марфы Кузьминичны Козьминой, 1885 г.р.) было 13 детей, она «поскрёбыш», последняя. Во время переселения в Сибирь по дороге погибло двое мальчиков-двойняшек, и ещё про троих ничего не известно. По факту бабушка упоминала имена восьмерых, но говорила, что всего было 13.
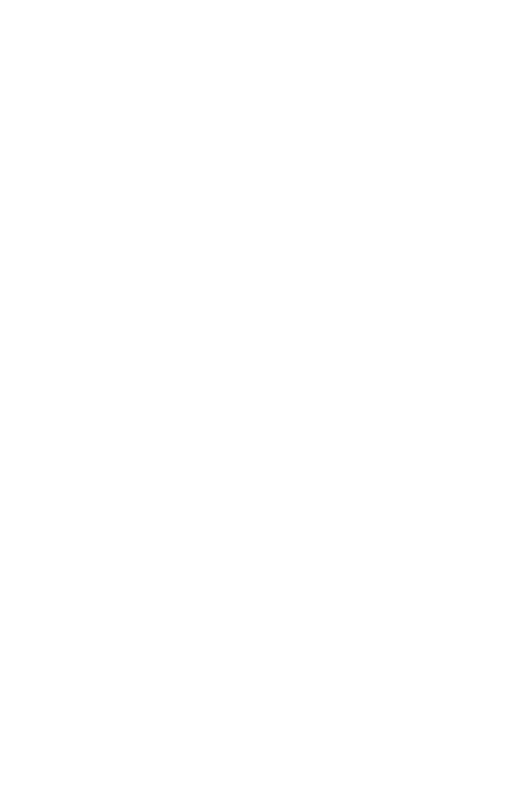
Аксинья Харитоновна Кузьмина(Картошкина). На ёлке ужик*.
Изначальная фамилия могла быть просто Бульба на белорусский манер, а при переписи их сделали Картошкиными. В разговорной речи семейство часто называли «бульбой», «бульбашами».
Мне известно, что при поиске сведений можно обращаться в архивы, ЗАГСы, библиотеки, церкви, на сайты (Министерства обороны и др.). Я искала и кое-что нашла, сделала запрос в Заларинскую библиотеку. Там хранятся «Исповедные книги крестьян» интересующей меня местности.
Так из выписки «Исповедной книги» Дмитриевской церкви Дмитриевской волости Балаганского уезда Иркутской губернии за 1916 год в Мостовке и близлежащих деревнях проживало 3 семьи Картошкиных, главами которых были следующие:
Мне известно, что при поиске сведений можно обращаться в архивы, ЗАГСы, библиотеки, церкви, на сайты (Министерства обороны и др.). Я искала и кое-что нашла, сделала запрос в Заларинскую библиотеку. Там хранятся «Исповедные книги крестьян» интересующей меня местности.
Так из выписки «Исповедной книги» Дмитриевской церкви Дмитриевской волости Балаганского уезда Иркутской губернии за 1916 год в Мостовке и близлежащих деревнях проживало 3 семьи Картошкиных, главами которых были следующие:
- Картошкин Онуфрий Тимофеевич, 50 лет.
- Картошкин Харитон Михайлович, 32 года.
- Картошкин Михаил Фокинович, 52 года
Итак, из этой записи я сразу узнаю год рождения моего прадеда (1884), ИО прапрадеда (Михаил Фокинович), соответственно имя прапрапрадеда (Фокий) и ФИО их супруг.
Они все переселенцы из Белоруссии. Как мы видим, переселялись кланом. Так, братья моего прадеда Харитона поселились в соседней деревне Семёновке. Имена у них были старинные: Кирсан, Селиверст, Христина.
Возможно они были старообрядцами, может быть кержаками. Дед называл бабушку «кержачкой», но это могло быть и простым ругательством.
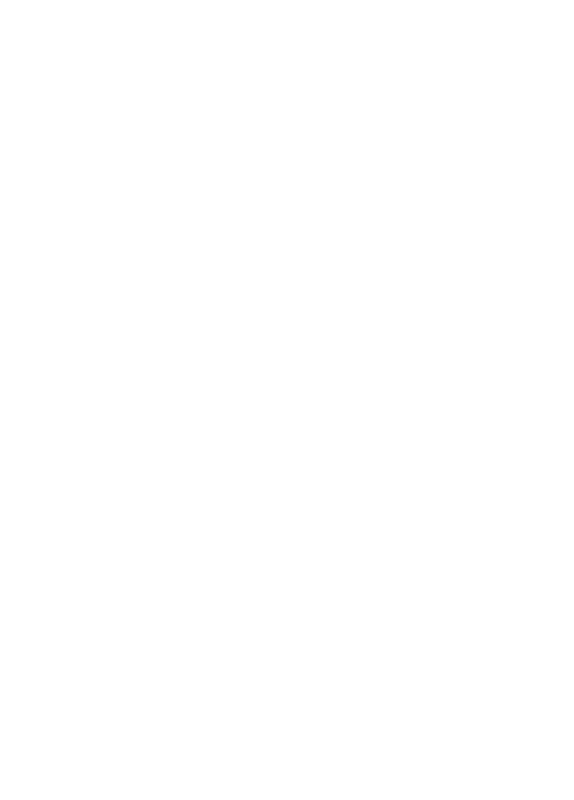
Харитон Михайлович Картошкин, мой прадед
Когда уже жили в Мостовке, у них было в хозяйстве: 4 лошади, 3 коровы, свиньи, овцы, куры. «Была у нас молотилка. Зерно молотили цепями. Мы верхом на лошади погоняли, чтобы молотило. А там барабан такой, солома туда отходит, зерно сыплется сюда вниз. Запрягали четырех лошадей. Потом веялку сделали для проветривания зерна, возили в район зерно, там на муку перемалывали и обдирали на крупу. Потом построили магарню, где дёготь для смазки гнали; станок сделали для выработки овчины. Так трудились раньше. Сдавали государству: мясо, молоко, яйца, шерсть, кожу. До 30-х годов жили единолично, но потом все забрали в колхоз, им оставили только одну корову и две овцы».
В Мостовке у них было два дома. Один – пятистенный дом, был сделан из лиственницы, потому что лиственница самое долговечное дерево. Он и до сих пор стоит.
Зимой в свободное помещение они пускали пожить цыган, то есть на зимовье. Цыгане были красивые и весёлые. От них бабушка Ксеня научилась немного цыганским песням и танцам. Напевает: «О, марджа...». Рассказывает, что когда отец играл на гармони, они танцевали. «И то они по-нашему, то мы по-ихнему». Цыгане гадали совсем на других, своих, картах. Мы долгое время думали, что предки у нас были цыгане. На самом деле цыгане останавливались зимой в деревне не только у них одних, а летом уходили в табор.
Семья была музыкальная. Братья-сестры Аксиньи играли на гармошке-хромке, на русский строй. Это, видимо, их научил отец Харитон. Он играл на гармони, скрипке, балалайке, гитаре. На скрипке научился играть в Германии, когда попал туда во время Первой мировой войны.
Бабушка Ксеня рассказывает, что в деревне церкви не было, но ездили куда-то на телеге. Учиться тоже отправлялись в другую деревню. В соседней Дмитриевке, в 7 километрах, она посещала 8-летнюю школу, но окончила только 5 классов. Они учились там вместе со старшим братом. Родители их отвозили на неделю, селили в избе, оставляли продукты, а через неделю, на выходные, дети сами ходили пешком домой. Ещё будучи ребёнком, устроилась работать в колхоз – ухаживать за лошадьми. Она очень их любила, даже мечтала пойти работать в цирк. И очень грустила, что жизнь сложилась иначе. Её любимым конём был Пегаш.
В семье ещё оставался белорусский говор и диалект. Так покрывало называли «подстилкой», скамейку «слонец».
Рассказывает, что готовили: «Пироги пекли из лесных ягод. Вот с брусникой, она ото всего, туберкулезом не болели. Баранки пекли, сахар кусковой на палку и в печку на противень. Из теста ножиком вырезали фигурки рыбок, зайчиков. Хлеб ржаной пекли и сдобные калачи. Для ловли рыбы делали корчашки: туда хлебных крошек набросаешь и проволокой, с прутьев делали и ставили в речку. Тонга речка была».
Прошу припомнить что-нибудь у мамы, что готовила бабушка. «Драники, сало, как солёное, так и копчёное, кровяную колбасу сами делали. Огромные куски сала висели в холодных сенях на крюках. Сначала сало коптили так. Выкапывали яму в земле, обкладывали ивовыми прутьями, сверху подвешивали сало, ну и коптили на черёмуховых дровах, чтобы вкуснее было. После делали уже серьезную самодельную коптилку. Бабушка любила шкварки из сала, нам, детям, конечно, это казалось очень жирным.
«Одежду шили сами. Изо льна всё ткали. Делали для прочёсывания льна гребни, чтоб трепать лён. Верёвки вили со льна. Прялки сами делали, вытачивали узоры. Делали полотно так: лен выращивали, потом трепали. Сначала треплешь его трепалкой, потом такие чесалки деревянные были. Прикрепляешь и чешешь. А потом уже на куделю и такие прялки. Тонкие нитки наматываются на веретёшку. А потом на этих кроснах ткёшь полотно». Бабушка ткала ковры на ткацком станке. Помню даже в городе, в квартире, у нее стоял небольшой станок; ещё очень красивое лоскутное одеяло и одеяло с вышивкой, которое я так любила, что когда оно прохудилось, мы с папой накрывались им с головой и эти дырочки были как будто звёзды.
В Мостовке у них было два дома. Один – пятистенный дом, был сделан из лиственницы, потому что лиственница самое долговечное дерево. Он и до сих пор стоит.
Зимой в свободное помещение они пускали пожить цыган, то есть на зимовье. Цыгане были красивые и весёлые. От них бабушка Ксеня научилась немного цыганским песням и танцам. Напевает: «О, марджа...». Рассказывает, что когда отец играл на гармони, они танцевали. «И то они по-нашему, то мы по-ихнему». Цыгане гадали совсем на других, своих, картах. Мы долгое время думали, что предки у нас были цыгане. На самом деле цыгане останавливались зимой в деревне не только у них одних, а летом уходили в табор.
Семья была музыкальная. Братья-сестры Аксиньи играли на гармошке-хромке, на русский строй. Это, видимо, их научил отец Харитон. Он играл на гармони, скрипке, балалайке, гитаре. На скрипке научился играть в Германии, когда попал туда во время Первой мировой войны.
Бабушка Ксеня рассказывает, что в деревне церкви не было, но ездили куда-то на телеге. Учиться тоже отправлялись в другую деревню. В соседней Дмитриевке, в 7 километрах, она посещала 8-летнюю школу, но окончила только 5 классов. Они учились там вместе со старшим братом. Родители их отвозили на неделю, селили в избе, оставляли продукты, а через неделю, на выходные, дети сами ходили пешком домой. Ещё будучи ребёнком, устроилась работать в колхоз – ухаживать за лошадьми. Она очень их любила, даже мечтала пойти работать в цирк. И очень грустила, что жизнь сложилась иначе. Её любимым конём был Пегаш.
В семье ещё оставался белорусский говор и диалект. Так покрывало называли «подстилкой», скамейку «слонец».
Рассказывает, что готовили: «Пироги пекли из лесных ягод. Вот с брусникой, она ото всего, туберкулезом не болели. Баранки пекли, сахар кусковой на палку и в печку на противень. Из теста ножиком вырезали фигурки рыбок, зайчиков. Хлеб ржаной пекли и сдобные калачи. Для ловли рыбы делали корчашки: туда хлебных крошек набросаешь и проволокой, с прутьев делали и ставили в речку. Тонга речка была».
Прошу припомнить что-нибудь у мамы, что готовила бабушка. «Драники, сало, как солёное, так и копчёное, кровяную колбасу сами делали. Огромные куски сала висели в холодных сенях на крюках. Сначала сало коптили так. Выкапывали яму в земле, обкладывали ивовыми прутьями, сверху подвешивали сало, ну и коптили на черёмуховых дровах, чтобы вкуснее было. После делали уже серьезную самодельную коптилку. Бабушка любила шкварки из сала, нам, детям, конечно, это казалось очень жирным.
«Одежду шили сами. Изо льна всё ткали. Делали для прочёсывания льна гребни, чтоб трепать лён. Верёвки вили со льна. Прялки сами делали, вытачивали узоры. Делали полотно так: лен выращивали, потом трепали. Сначала треплешь его трепалкой, потом такие чесалки деревянные были. Прикрепляешь и чешешь. А потом уже на куделю и такие прялки. Тонкие нитки наматываются на веретёшку. А потом на этих кроснах ткёшь полотно». Бабушка ткала ковры на ткацком станке. Помню даже в городе, в квартире, у нее стоял небольшой станок; ещё очень красивое лоскутное одеяло и одеяло с вышивкой, которое я так любила, что когда оно прохудилось, мы с папой накрывались им с головой и эти дырочки были как будто звёзды.
Из праздников справляли Масленицу. Из соломы делали маленьких кукол, лицо им рисовали свёклой и углем, для устойчивости делали подставку из картошки. Эти куклы так сложно делались, солома как-то переплеталась нитками. Потом их сжигали. Но я ее сохранила. Бабушка делала мне бусы из семян пиона, она называла их Карени-марени.
На Новый год на ёлку вместо звезды вешали ужика*. Это объясняется тем, что в Белоруссии уж считался добрым животным, охранителем домашнего очага, и самодельного ужика вешали на елку в качестве оберега.
На Новый год на ёлку вместо звезды вешали ужика*. Это объясняется тем, что в Белоруссии уж считался добрым животным, охранителем домашнего очага, и самодельного ужика вешали на елку в качестве оберега.
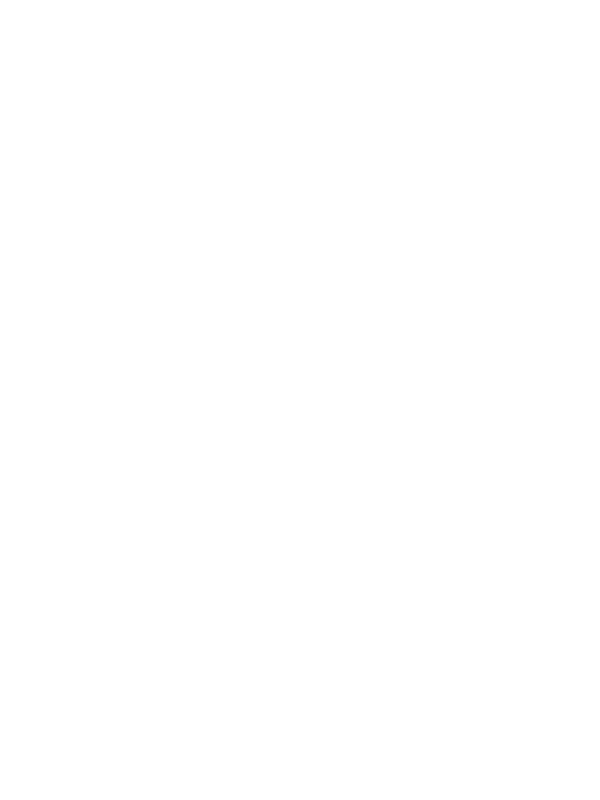
Масленичка, сделанная бабушкой в 2012 году
В народе про Мостовку говорили (узнала от Галины Николаевны Макогон), что : «Там колдуны колесом катились...». Не знаю, про моих ли?.. Но мне бабушка рассказывала, что родители её были знахарями, кое-кто их и колдунами обзывал. Знаю, что бабушка Марфа лечила разные болезни, например, ожоги и какую-то странную болезнь «волосец» под ногтями. Бабушка всегда об этом говорила, как о примечательном факте.
И прадед мой тоже всякое такое умел. Например, однажды в деревне мужики поспорили «кто пронесет поросенка сквозь стаю волков». Один смельчак выискался. Взял поросенка и пошел, ну волки его и окружили. Пришлось звать моего прадеда, чтобы он заговорил волков.
А бабушка Ксеня, их дочь, моя бабушка, лечилась только травами, таблетки не пила. Кроме обычных трав, ромашки, зверобоя, душицы и т.д., вспоминаю, что от печени сестре давала володушку, деду от пристрастия к алкоголю – копытень, от болезней глаз – нюхать валериану. Рассказывала, что от диабета нужно заваривать стручки фасоли. Бородавки лечили так – обматывали по 40 узлов льняной ниткой, а дальше закапывали, где быстро гнеет. Через неделю должно пройти.
Бабушка верила в сны. Однажды мы с сестрой поздно/рано пришли с дискотеки, а бабушка не спала. Она очень беспокоилась и сказала, что ей снилось, что она моет пол, а это значит не к добру. К добру – это если купаться в чистой воде. Снятся яйца – приедут родственники.
Из забавных примет, в которые верила бабушка, была такая. Это уже когда она в городе жила. При первом громе она быстро падала на пол и принималась по нему кататься. Она считала, что так нужно, чтобы спина не болела. На самом деле это пережиток аграрной магии, когда бегали и валялись на полях, чтобы был урожай. А в городе эта примета приняла другую форму.
Ещё приметы. Если в стручке 7 горошин, то семейное счастье, если 8, то просто счастье.
Если у клевера 4 листа, то тоже счастье.
Помню бабушкины поговорки и пословицы. «Ласковая телятка двух маток сосет», «Близко локоть да не укусишь», «Конь на четырех ногах спотыкается, а человек на двух», «Чем с дурным квасом, лучше с холодной водой». Она нас с сестрой называла золотиночками.
Эти частушки узнала от бабушки:
«Гармонист, гармонист,
Сердце беспокоится,
Разрешите, гармонист,
С вами познакомиться.
Огурчики, помидорчики,
Меня милый целовал
В коридорчике.
Об этой частушке бабушка говорила, что она неприличная.
Ставь, мамаша, самовар -
Золотые чашки.
Ко мне миленький идёт
В розовой рубашке.
И прадед мой тоже всякое такое умел. Например, однажды в деревне мужики поспорили «кто пронесет поросенка сквозь стаю волков». Один смельчак выискался. Взял поросенка и пошел, ну волки его и окружили. Пришлось звать моего прадеда, чтобы он заговорил волков.
А бабушка Ксеня, их дочь, моя бабушка, лечилась только травами, таблетки не пила. Кроме обычных трав, ромашки, зверобоя, душицы и т.д., вспоминаю, что от печени сестре давала володушку, деду от пристрастия к алкоголю – копытень, от болезней глаз – нюхать валериану. Рассказывала, что от диабета нужно заваривать стручки фасоли. Бородавки лечили так – обматывали по 40 узлов льняной ниткой, а дальше закапывали, где быстро гнеет. Через неделю должно пройти.
Бабушка верила в сны. Однажды мы с сестрой поздно/рано пришли с дискотеки, а бабушка не спала. Она очень беспокоилась и сказала, что ей снилось, что она моет пол, а это значит не к добру. К добру – это если купаться в чистой воде. Снятся яйца – приедут родственники.
Из забавных примет, в которые верила бабушка, была такая. Это уже когда она в городе жила. При первом громе она быстро падала на пол и принималась по нему кататься. Она считала, что так нужно, чтобы спина не болела. На самом деле это пережиток аграрной магии, когда бегали и валялись на полях, чтобы был урожай. А в городе эта примета приняла другую форму.
Ещё приметы. Если в стручке 7 горошин, то семейное счастье, если 8, то просто счастье.
Если у клевера 4 листа, то тоже счастье.
Помню бабушкины поговорки и пословицы. «Ласковая телятка двух маток сосет», «Близко локоть да не укусишь», «Конь на четырех ногах спотыкается, а человек на двух», «Чем с дурным квасом, лучше с холодной водой». Она нас с сестрой называла золотиночками.
Эти частушки узнала от бабушки:
«Гармонист, гармонист,
Сердце беспокоится,
Разрешите, гармонист,
С вами познакомиться.
Огурчики, помидорчики,
Меня милый целовал
В коридорчике.
Об этой частушке бабушка говорила, что она неприличная.
Ставь, мамаша, самовар -
Золотые чашки.
Ко мне миленький идёт
В розовой рубашке.
Когда я спрашивала у бабушки про родословную, конечно очень интересовали фотографии. Их оказалось немного. Но самая редкая - 1928 года. На ней моей бабушке Ксене 5 лет. Она с мамой и сестрами. Эта фотография сделана на Пасху. Меня очень заинтересовал наряд – это не традиционная белорусская одежда. А, как оказалось, городская, на европейский манер. В Европе и в некоторых русских городах в это время стали носить галстуки, но это был предмет мужского гардероба. Мой прадед на тот момент недавно вернулся из Германии и как раз стал носить галстук. А жене и девчонкам тоже понравилось, и они сделали галстуки себе. На черно-белом фото не видно, но галстуки разных цветов.
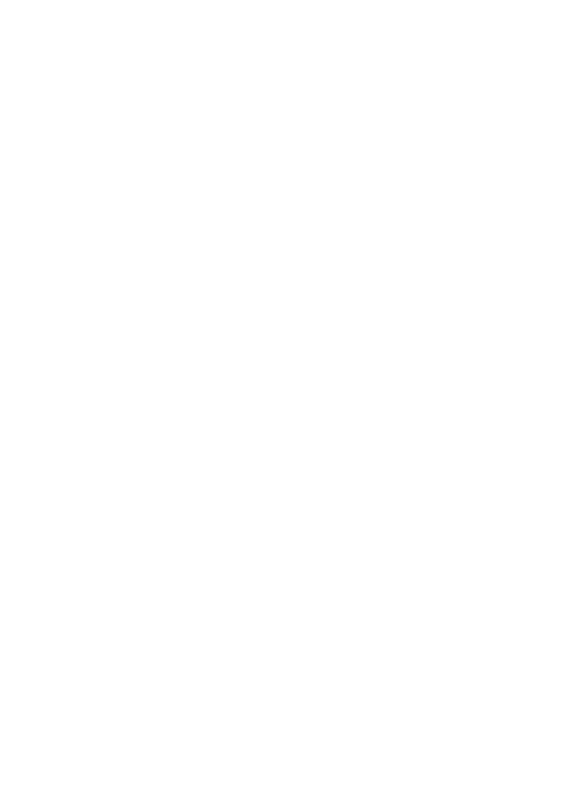
Семья на Пасху, 1928 год. Аксинья - самая маленькая
Изучение своего рода – это важно. Ты понимаешь, откуда ты и зачем, видишь людей в исторической перспективе. Когда изучаешь свой род, начинаешь замечать некоторые закономерности в повторяемости судеб, видеть всю картину целиком и, кажется, больше понимаешь себя.

